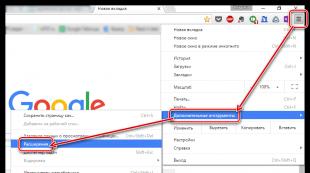Отчего любовь приносит столько боли? Любовь приносит боль
В ходе последней гастроли артиста М. О. Ефремова (сына О. Н. Ефремова) случился соблазн. Выступая в Самаре, Ефремов пришел на спектакль не совсем здоровым.
Представление было задержано на 20 минут, когда же занавес все-таки поднялся, артист, по свидетельству зрителей, выйдя на сцену, "путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару - и весь спектакль возвращался к этому посланию".
Сам артист сообщил по поводу соблазнительного представления: "Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду".
Конечно, всякие театральные накладки на почве злоупотребления крепкими напитками случались даже в мрачные годы тоталитаризма. В одном из театров днем 1 января представляли историко-патриотическую пьесу, в ходе которой княгиня провожала князя в поход с плачем и причитаниями. Артист, игравший князя, чувствовал себя очень нехорошо и в какой-то момент, удрученный плачем и головной болью, воскликнул: "Да пошла ты <…>!" После чего занавес упал, перед публикой явился администратор и драматически сообщил: "Товарищи, у нас случилось несчастье, артист такой-то сошел с ума". Но это, повторяем, было при тоталитаризме, тогда как в нынешней Самаре царит свобода.
Да и вообще театральный мир - это совершенно не то место, где следует искать благонравие и смиренномудрие. Причем так было всегда. Средневековые жонглеры и скоморохи, а до них и древнеримские мимы также не всегда отличались примерным поведением. А в 1836 году Александр Дюма - пэр представил парижской публике драму "Кин, или Гений и беспутство", посвященную судьбе знаменитого английского трагика Эдмунда Кина, отличавшегося наряду с гениальностью сильным пристрастием к горячительным напиткам. Спектакль пользовался большим успехом, причем главного героя играл другой гений, Фредерик Леметр, также имевший обыкновение выходить на сцену мертвецки пьяным.
Генрих Гейне, вообще говоря, критик весьма желчный и мало склонный к похвалам, посвятил спектаклю восторженную рецензию: "Потрясает правдивость всего спектакля. <…> Между персонажем и актером удивительное родство. <…> Фредерик - возвышенный шут, его дикие клоунады заставляют Талию бледнеть от ужаса, а Мельпомену смеяться от радости".
Самарская публика, однако, и не побледнела от ужаса, и не рассмеялась от радости. Отчасти потому, что она не Талия и не Мельпомена, но есть и другие причины.
В провинции гастроль столичной знаменитости традиционно вызывает известный пиетет. "Вот кто заставит нас над вымыслом облиться слезами!" Если же знаменитость является перед публикой расслабленная в хлам, это порождает немалый диссонанс.
Еще более способствует диссонансу характер хмеля, присущий служителю Мельпомены. Если он просто не вяжет лыка, это еще полбеды. "Ну вот, великая беда, что выпьет лишнее мужчина". Но если хмель дурной и агрессивный, сопровождающийся скверноматерной бранью по адресу всех зрителей и даже всего города, где проходит гастроль, тут снисходительного отношения ожидать труднее.
Еще один источник диссонанса - известность артиста как участника стихотворного начинания (совместно с Д. Л. Быковым) "Гражданин поэт". Там М. О. Ефремов выражал возвышенные чувства:
"Разбей изнеженную лиру,
На тронах поразить порок".
Образ тираноборца недостаточно сочетается с обидными слабостями. Хотя в жизни это встречается сплошь да рядом, но публика склонна требовать гармонии.Наконец, время для алкотура было выбрано крайне неудачно. На фоне беспрестанных скандалов и в , и за рубежом, в ходе которых гениальных артистов обвиняют то в неаккуратном обращении с казенными деньгами, то в неподобающих домогательствах, склонность публики извинять беспутных гениев - "Он же артист!" - сейчас несколько понижена. В такой общенеблагоприятной обстановке лучше было бы временно умерить страсть к напиткам.
Но "сердцу девы нет закона" - со всеми вытекающими последствиями.
С. Есенин - выдающийся русский поэт, неповторимый талант которого признан всеми. Поэт знал Россию с той стороны, с какой видел ее народ, создал красочный и многоликий образ природы, воспел высокое чувство любви. Глубокая внутренняя сила его поэзии, совпадение пути с жизнью народа, с жизнью страны позволили Есенину стать по-настоящему народным поэтом. “Искусство для меня не затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу себя выразить”, - писал Есенин.
Большая часть произведений Есенина посвящена России. Сергей Есенин родился в старинном приокском селе Константинове, что около Рязани. Здесь, на рязанской земле, отшумело детство поэта, прошла его юность, здесь он написал свои первые стихи. И костер зари, и плеск волны, и серебристая луна, и необъятная небесная синь, и голубая гладь озер - вся красота родного края с годами отлилась в стихи, полные любви к русской земле:
О Русь - малиновое поле,
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
В сердце Есенина с юных лет запала Россия, ее грустные и раздольные песни, светлая печаль, сельская тишина, девичий смех, горе матерей, потерявших на войне сыновей. Все это - в стихах Есенина, каждая строчка которых согрета чувством безграничной любви к родине. “Моя поэзия богата одной любовью - любовью к Родине. Это - ведущая ее тема, которая питает все мое творчество”, - говорил Есенин.
О чем бы ни писал поэт, даже в самые тяжелые минуты одиночества светлый образ родины согревал его душу. Как настоящий поэт Есенин заявил о себе с самых первых стихов, но оригинальным предстает в стихотворении “Гой ты, Русь моя родная”...
В нем уже отчетливо проглядывает чисто есенинское: размашистость, неуемное озорство, нежная и пронзительная любовь к родине. Ранние стихи Есенина полны звуков, запахов, красок, поэт воспевает родину, которую очень сильно любит. Вместе с тем уже в ранних стихах Есенина много тоски и печали, предчувствия предстоящих бед России:
Но более всего любовь к родному краю
Меня томила, мучила и жгла.
Время Есенина - время крупных поворотов в истории России. От Руси, втянутой царизмом в пучину мировой войны, - к Руси, преображенной революцией,- таков путь, пройденный поэтом вместе со своей Русью, своим народом. Поэт переживает вместе со страной все исторические перемены. После революции 1917 г. его поэзия наполнилась новым светом - Есенин видит будущее России в виде утопических картин рая на земле, романтического “града Инонии”, поэт осознает ту силу и свободу, которую ему и народу принесли октябрьские события. Но потом поэт понимает, что утопический рай - это не реальность, ему хочется понять происходящее, его мучает вопрос: “Куда несет нас рок событий?” Но найти ответ на этот вопрос очень трудно, поэт стремится познать смысл происходящего:
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
Путешествуя и живя за границей, поэт не забывает свою родину, следит за всеми событиями, происходящими в России. Он пишет стихотворения - впечатления об этих переменах, переживает за свой народ. В стихах Есенина о деревне нас привлекает тревога за ее судьбу, верно показанная деревенская жизнь, беспредельная любовь поэта к деревне - неотъемлемой и важной частичке родины. Он знал и нищету деревенской жизни, и непосильные тяготы сельского труда. О том, что Есенин видел кричащие социальные противоречия деревни, что он болел этой вековой болью русской крестьянской жизни, свидетельствуют такие стихи, как “Заглушила засуха засевки...”, “Край ты мой заброшенный” и другие. Но в его стихах несравненно больше деревенских праздников и гуляний, картин сельского приволья, чем картин тяжелого крестьянского труда. Сельская жизнь предстает в светлом и радостном ореоле, с ней связываются самые сокровенные верования и чувства поэта. Деревенская изба, родные приокские просторы обретают почти сказочную красочность:
Полыхают зори, курятся туманы,
Над резным окошком занавес багряный.
Но совсем иной предстает перед нами деревня в суровые годы войны. Как проникновенно, с какой болью описал поэт деревенскую тишину, пустоту, страх перед войной. Поля пусты избы заперты, лишь изредка достигнет деревни солдатская весточка. Раньше пели крестьяне веселые песни, беззаботные, сейчас же “все поют про горе, про тяжелый гнет, про нужду лихую и голодный год”. Уже нет тех веселых песен, не льется радостная мелодия из окон деревенской избенки, “потому что горе “заглушает” их. Бели раньше поэт восхвалял “полевую Русь”, то теперь поэт хочет “стальной видеть бедную, нищую Русь”.
Все творчество Есенина проникнуто лиризмом: его раздумья о судьбах родины, стихи о любимой, волнующие рассказы о животных. Любимые образы поэта связаны с природой: белая березка, его старый клен “на одной ноге”, стерегущий “голубую Русь”.
В стихах Есенина природа живет неповторимой поэтической жизнью. Она вся в вечном движении, в бесконечном развитии и изменении. Подобно человеку она поет и шепчет, грустит и радуется. В изображении природы Есенин использует образы народной поэзии, часто прибегает к приему олицетворения. Черемуха у него “спит в белой накидке”, вербы плачут, тополя шепчут, “пригорюнились девушки-ели”, “заря окликает другую”, “березы в белом плачут по лесам”.
Природа у Есенина многоцветна, многокрасочна. Любимые его цвета - синий и голубой. Эти цветовые тона усиливают ощущение необъятности степных просторов России (“только синь сосет глаза”, “синь, упавшая в реку”, “в летний вечер голубой”), выражают чувство любви и нежности (“парень синеглазый”, “голубая кофта, синие глаза”).
Еще одним излюбленным цветом Есенина является золотой, которым поэт подчеркивает силу или высоту высказывания (“роща золотая отговорила милым языком”). Есенинская природа оказывается как бы выражением человеческих чувств, что позволяет поэту особенно глубоко передать чувство любви к жизни. Он сопоставляет явления природы с событиями человеческой жизни:
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.
Темы родины и природы в есенинской поэзии тесно взаимосвязаны, потому что, воспевая родину, поэт не может быть равнодушным к ее полям, лугам, рекам, описывая яке природу, поэт тем самым описывает и родину, так как природа - часть родины. Огромная любовь к России дала Сергею Есенину право сказать:
Я буду воспевать
Всем существом в поэте Шестую часть земли
С названьем кратким “Русь”.
А Русь - это русский народ, неповторимая природа, история страны, это все, что относится к этой части земли.
Поэзия Есенина близка и дорога многим народам, его стихи звучат на разных языках. Заслуга поэта велика. Произведения его затрагивают наиболее важные аспекты жизни, темы, близкие народу, актуальные. Язык Есенина прост и доступен, сравнения подобраны с поэтической точностью, образы многолики и красочны. Поэзия волнует сердце, притягивает своей оригинальностью и поэтической красотой, Есенин - жизнелюб. И это качество он воплощает в своих стихах, читая которые, невольно начинаешь смотреть на жизнь с другой стороны, откосишься ко всему проще, учишься любить свой край, донимаешь, как Есенин, что “оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле”. Мне очень нравится поэзия Есенина.
Лет шесть тому назад в Париже на кладбище Монмартра можно было еще видеть серую плиту. На ней стояло только два слова «Henri Heine». Всего два, и то иностранных, слова над останками немецкого поэта; два слова, оставленные стоять в течение целых 45 лет на камне, в хаосе усыпальниц парижской бедноты... О, у немцев, очевидно, был не один, а много поэтов, которые назывались Генрих Гейне! Я не думаю, конечно, чтобы поэты так уж нуждались в чьей-нибудь признательности, тем более посмертной, да еще в виде такой претенциозной нелепости, как мавзолей .
Но грустно думать, что для поэта не нашлось даже каменных слов на том языке, которому он сам оставил венок бессмертной свежести. Можно, пожалуй, предположить, что не только соотечественники Гейне, но и вообще все люди, думающие по-немецки, так прочно и раз навсегда обиделись на его выходки против орла Гогенцоллернов или знамени Фридриха Барбаруссы , что в их глазах для кары Гейне оказалось мало даже его двадцатилетнего изгнания . Когда-то Прометей горько оскорбил отца богов профанацией его стихии: он был сурово наказан, но тот же Зевс родил и героя, положившего конец пытке титана. Неужто же олимпийцы оказались менее злопамятными, чем бюргеры Дюссельдорфа и Франкфурта?
В настоящее время, благодаря покойной австрийской императрице, могила Гейне украшена достойно ее червей , но оценка автора «Германии» на его родине далеко не свободна еще и теперь от горечи оскорбленных им когда-то патриотов, фарисеев и тупиц. Последние двадцать с лишком лет проведены были Гейне среди французов, и между французами у него было немало друзей. Безумный Жерар де Нерваль отмечал Гейне его германизмы, а Т. Готье не только восхищал его, но влияние этого несравненного художника, несомненно, сказалось и на эстетизме «Романцеро». Тем не менее французы никогда не считали его своим. Он не был для них даже Тургеневым или Мицкевичем.
Среди немцев они и Бисмарка и Ницше считают гораздо родственнее себе по духу, чем рейнского трубадура. Больной Гейне обмолвился как-то, говоря о Франции, такой фразой: «Легкость этого народа меня утомляет», – и вот через полвека после его агонии французы все еще не могут забыть этой фразы. Если Гейне кого-нибудь боготворил, кроме женщин, которыми хотел обладать, так разве одного Наполеона. И сколькие французы до сих пор не могут простить ему этого: гренадеры и барабанщики Гейне не менее, чем беранжеровские grand"mér"*ы вызывают у французов, переживших Вторую империю, невольную горечь; при этом некоторые из них, желая прикрыть свое недовольство, умудряются расслушать в бряцании наполеоновской легенды даже отзвуки «старых счетов еврейского квартала». Поляки? Но простят ли они когда-нибудь Гейне его Крапюлинского ?
Если есть – не решаюсь сказать народ, но общество – интеллигенция, – которой Гейне, действительно, близок по духу и у которой нет, да и не может быть с ним никаких политических счетов, – так это, кажется, только мы, русские. Особенно в шестидесятые годы и в начале семидесятых мы любили Гейне, пожалуй, больше собственных стихотворцев. Кто из поэтов наших, начиная с Лермонтова, не переводил Гейне (Майков, Фет, Алексей Толстой)? Гейне имел даже как бы привилегированных русских переводчиков, тесно связавших с его поэзией свои имена: таковыми были М. Л. Михайлов и ныне здравствующий П. И. Вейнберг . Правда, русские всегда понимали Гейне своеобразно, но что мы не только чувствовали его обаяние, а провидели его правду лучше других народностей, – это не подлежит сомнению. И на это было много причин. Во-первых, русскому сердцу как-то трогательно близко все гонимое, злополучное и страдающее, а таков именно Гейне.
Далее, мы инстинктивно уклоняемся от всего законченного, застывшего, общепризнанного, официального: истинно наша муза это – ищущая дороги, слепая муза Тютчева, если не кликуша Достоевского. И поэзия Гейне, эти частые июльские зарницы, эта «легенда веков при вспышках магния» , как превосходно выразился о поэзии Гейне один французский писатель, своеобразно воспринятые нашей больной славянской душою, показались ей близкими, почти родными: они не испугали ее, как «отравленные цветы» Бодлера , и не оставили ее холодной, как всевозможные классики, начиная с Эсхила и кончая Мореасом (причем, увы, не следует пропускать и Олимпийца из Веймара). Самая антиклассичность Гейне сближала его с нами. Когда-то Шиллер с увлечением и даже проникновенно рядил своих современников в маскарадные костюмы олимпийцев. Но Шиллер любил античность. И, конечно, сам он первый чувствовал, что пишет совсем не то, что читал. Не так было с Гейне. Стоит прочесть «Северное море» , и вы поймете, что классическая застылость контуров и даже эмблематичность олимпийцев прямо-таки была ему не по душе, оскорбляла его эстетически. Посмотрите, что он сделал с Посейдоном! А Амфитрита – эта торговка рыбой – и эти глупые дочери Нерея? Правда, в «Романцеро» мелькнул очаровательный Аполлон , но что за прозаический дублет Гейне дает к нему тут же в Рабби Файбише из амстердамской синагоги!
Гейне был врагом всякой религии, поскольку она слагается в канон и требует догматов. Если какой-нибудь теолог дочел до конца книгу его «Еврейских мелодий», то он, разумеется, никогда не простит памяти Гейне его «Диспутации».
В этой пьесе талмудист спорит с францисканцем о преимуществе веры; спор ведется жаркий, и победа клонится то на ту, то на другую сторону. Наконец, бойцы выбились из сил. И одной из белокурых героинь Гейне надо решить, кто же победил на турнире. К сожалению, впечатление от доводов получилось у Бьянки хотя и вполне определенное, но нераздельное, и, главное, оно уже совершенно не подходило к богословской материи... Если Гейне не допускал религии, как канона, то еще более чуждыми казались ему ее философские суррогаты вроде деизма. И тем не менее Гейне решительно не мог жить ни без религиозных иллюзий, ни без контроверз в сфере богословия. Даже кощунство Гейне есть, в сущности, признак его непрестанной религиозной возбудимости. Нам ли, впрочем, русским, среди которых вырос Достоевский, не понимать этой своеобразной карамазовщины? Насколько она была в натуре Гейне, можно видеть из того, что, приступив к своему «Романцеро» с твердым намерением не допускать в эту книгу кощунства, Гейне трижды на ее страницах изменил своему, никем не вынужденному у него, обещанию: в «Христовых невестах», в «Вицли-Пуцли» и в «Диспутации». Впрочем, я не возьмусь утверждать, что, кроме этих трех пьес, серные искорки с факела гейневского бесенка не попали и в другие еще места его сборника. Любя в богословиях всех стран лишь фейерверк, игру ума, в самой религии Гейне любил ее пафос. О, не риторический, конечно, а настоящий пафос: тот, например, который светится в «Кевлаарских пилигримах» . Среди молебных даров Мадонне-целительнице принесено было в Кевлаар восковое сердце, – и вот богоматерь, приблизившись к постели больного юноши, у которого умерла невеста, останавливает источник неусыпляемых мучений, оставляя больного бездыханным. Совершилось чудо, и Гейне не выпускает на этот раз своего бесенка. Есть пафос, которому Гейне не только всегда и беспрекословно верил, но к которому он относился с каким-то болезненным состраданием, – это был пафос сердца, раненного безнадежной или обманутой любовью. Религиозный экстаз был, может быть, любимейший из тех, которым Гейне отдавался во власть, но экстаз должен был быть при этом кристально чистым и безудержно свободным, как радужный водомет среди пыльного города в жаркий полдень.
Именно такое впечатление оставляет пьеса «Мир» в первом цикле «Северного моря». Вовсе не надо проходить через купель или учиться катехизису, чтобы воочию и неотразимо почувствовать всю необходимость и истинность Христа, который явился поэту ярким солнечным днем на волнах Северного моря.
Челом уходил он в небесную высь,
А руки воздетые он простирал
Над сушей и морем;
Сердцем в груди его было
Пламенно-яркое солнце.
Озаряя и грея,
Струило лучи благодати оно
И кроткий, любящий свет свой
По суше и морю.
Колокольные звуки тянулись торжественно
Взад и вперед, тянули, как лебеди,
На вязях из роз, скользивший корабль,
Играя, тянули его к зеленевшему берегу . (Пер. М. В. Прахова)
Ирония Гейне в религиозной области, конечно, не вполне совпадает с нашей: она гораздо острее и безнадежнее. Но что сближало отношение Гейне к положительной стороне религии с тем, которое отличает русскую интеллигенцию, – так это боязнь, чтобы религиозное чувство не профанировалось привычкой, деспотизмом, тупостью или бессердечием. При более глубоком анализе открывается различие: для Гейне религия оправдывается красотой пафоса или иллюзиею, для русской души – самоограничением и подвигом. Но что более всего делает Гейне русским, так это, конечно, его отношение к родине. Вообще, любовь Гейне я бы скорее всего назвал дикою.
В ней всегда было что-то безоглядное, почти безумное, как и в самой натуре поэта, несмотря на весь ее эстетизм или, может быть, именно в силу преобладания в ней эстетического начала. Представьте себе человека, который только что грозил остричь когти проклятой птице, если она попадет когда-нибудь в его руки, и какой птице? И вдруг он же, со слезами умиления, целует руку богатого кузена при одной только мысли, что этот еврей не оставит своими милостями его Матильду , когда не станет в живых ее поденщика. Любовь Гейне к родине не могла бы уложиться ни в какие рамки. Это не «Дрожащие огни печальных деревень» из лермонтовской «Родины».
Но все же русское сердце отлично поймет Гейне! Для Гейне любовь к родине была не любовью даже, а тоской, физической потребностью, нет, этого мало: она была для него острой и жгучей болью, которую человек выдает только сквозь слезы и сердится при этом на себя за малодушие.
Прощай, мой кипучий французский народ,
Прощайте, веселые братья!
Дурацкой тоскою от вас я гоним,
Но скоро вернусь к вам опять я.
Что делать? Представьте – душа у меня
Болит от томительной грусти
По запаху торфа родимой земли,
По репе и кислой капусте,
По черному хлебу, по вони сигар,
Ночной охранительной страже,
Блондиночкам-дочкам пасторских семейств,
Гофратам и грубости даже,
По матери тоже – открыто скажу –
Томлюсь я глубокой тоскою;
Тринадцать уж лет я не виделся с ней,
Старушкой моей дорогою.
Прощай и жена моя милая! Ты
Не можешь понять мою муку:
Тебя я целую так крепко, но все ж
Решаюсь на эту разлуку.
Мучительной жаждой уносит меня
От счастья, сладчайшего в жизни.
Ах, я задохнусь, коль не дать подышать
Мне воздухом в милой отчизне,
До спазмов доводит волненье, тоска,
Растя все сильнее, сильнее...
Дрожат мои ноги от жажды попрать
Немецкую землю скорее . (Пер. П. И. Вейнберга)
Здесь не место распространяться о своеобразностях русифицирования Гейне в наших переводах. Лучшие из этих переводов, хотя бы того же Михайлова, при всей их несравненной задушевности, делают Гейне немножко плаксивым, а его стих однообразно певучим, как ланнеровский вальс , долетающий к нам через толстую каменную стену. В переводах Ал. Толстого немецкий поэт точно любуется собою, а у Майкова, наоборот, он становится сух и грозен. Но все это, в сущности, мелочи. Кто из нас может сказать, что он никогда не переживал хотя бы нескольких страниц из Гейне, и при этом вовсе не темпераментом, не в смысле юношеских разочарований, а как-то глубже, идейнее; нет, даже не идейнее, а полнее, целостней, душевнее. Нападки на Гейне нам, русским, или тяжелы или непонятны; к тому же в них часто чувствуется пессимистическое веяние антисемитизма.
Сделать беглую характеристику Гейне или хотя бы одной его стихотворной поэзии крайне затруднительно. Пусть стихов у Гейне наберется втрое меньше, чем прозы, так как ведь проходили десятки лет, в течение которых мог он не придумать ни одной рифмы, – но в результате он все же дал в своих стихах безмерно и, главное, разнообразно много. Просто глаза разбегаются! Займешься одним, набегает другое... Возьмите одно «Лирическое интермеццо»: сколько здесь этих безыменных, маленьких, но таких законченных пьес – перлов, сжавших в один миг, в один вздох целую гамму ощущений, в падающей капле – отразивших целый душевный мир. К сожалению, именно в этой области «великих мук, вмещенных в малые песни», наши переводы чаще всего неудовлетворительны, и мне приходится их оставить, не цитируя вовсе. В самом деле, ведь нет ничего легче, как, обесцветив юмористическую рифму, не заметив аллитерации, затушевав символический нюанс, придать характер общего места самому трепетному лиризму. Для тех, кто не может прочитать в подлиннике: Aus meinen grossen Schmerzen или Philister in Sonntagsröcklein – лучше будет не читать их вовсе. Самая буквальность русских переводов подчеркивает их безнадежную неверность.
Вот в качестве примеров гейневской лирики два перевода, очень далекие от совершенства, но по крайней мере подходящие к той музыке, которая для них существует:
* * *
Мне снилась царевна в затишье лесном,
Безмолвная ночь расстилалась;
И влажным, и бледным царевна лицом
Так нежно ко мне прижималась.
– Пускай не боится твой старый отец:
О троне его не мечтаю,
Не нужен мне царский алмазный венец;
Тебя я люблю и желаю.
– Твоей мне не быть: я бессильная тень, –
С тоской мне она говорила, –
Для ласки минутной, лишь скроется день,
Меня выпускает могила .
Двойник
Ночь, и давно спит закоулок:
Вот ее дом – никаких перемен, –
Только жилицы не стало, и гулок
Шаг безответный меж каменных стен.
Тише... Там тень... руки ломает,
С неба безумных не сводит очей...
Месяц подкрался и маску снимает.
«Это – не я: ты лжешь, чародей!»
Бледный товарищ, зачем обезьянить?
Или со мной и тогда заодно
Сердце себе приходил ты тиранить
Лунною ночью под это окно?
Однообразие некоторых гейневских символов, насыщенную цветочность его поэзии, несколько напоминающей в этом отношении лирику древних евреев, – эти розы, лилии, фиалки, сосны и пальмы, ели, соловьев, шиповники – все это критика отмечала не раз. Но не следует забывать, что в лирике, а особенно такой музыкальной, как у Гейне, определителем настроения являются нередко именно созвучия, если не мелодичность фразы или ритмический оттенок, а вовсе не тот или другой словесный символ.
Если любовь Гейне нельзя испугать никаким ничтожеством символов и он хотел бы сделаться то скамейкой под ногами своей милой, то подушкой, куда она втыкает свои булавки , то, с другой стороны, он не боится и гипербол: если надо написать любовное признание, он пишет его по темному небу ночи самой высокой елью, которую, сорвав с корней, зажигает в огнедышащей пасти Этны . Но более всего любил Гейне сказочный мир германского леса, особенно вакхических никс, рассудительных гномов и обманчивых эльфов. И, читая в начале «Ламентаций» «Лесное уединение», – вы не сомневаетесь, что лес был для Гейне действительно совершенно особым сказочным царством, в котором пестрая и нестройная действительность мхов и папоротников, журчаний и зеленых шумов проявлялась в форме совершенно своеобразной и лишь мечтательно постигаемой иллюзии. Не менее, чем мир народной сказки, близок был для Гейне и мир песни, причем и тот и другой отнюдь не были для поэта областью фольклора; в сказке никсы крепко целовали Гейне, а в песне бедный Петер наивно переживал муки своего поэта , также отвергнутого и также одинокого.
Но не только непосредственные впечатления жизни и мир народного творчества, воспринятый полусознательно, вместе с воздухом гор и леса, с песнью няньки, с картинкой в азбуке, – поэзию Гейне питали также отзвуки и отражения культуры и истории. Оживает лекция Шлегеля , страница Геродота или Тьерри , трактат талмудиста, – и вот перед нами проходит ряд историй и мелодий из его «Романцеро».
Я упоминал о сравнении поэзии Гейне с легендами веков при вспышках магния. И, правда, Гейне словно боится оставить вас долго под обаянием одной картины; он будто не хочет, чтобы вы усомнились хоть минуту в быстроте и свежести его крыльев. Из Египта он переносит вас в Сиам , чтобы умчать через страницу на Гастингское поле , а оттуда в грязную лачугу угольщика ; затем вы видите себя в Версале , чтобы на минуту завернуть в Палестину и тотчас же вернуться в Jardin Mabille * и т. д. Поэт везде дома: он точно смеется над климатом, языком и формой построек. Да и в самом деле, не все ли ему равно, где размыкивать тоску проклятых вопросов и вспоминать о дочери дюссельдорфского палача в Египте или в rue Lafitte **?
Когда-то, еще на заре своей жизни, Гейне пережил поцелуй, так мучительно воспетый позже, в наши уже дни, ноющей кистью Штука: это был поцелуй сфинкса . И с тех пор, как бы легко ни было прикосновение жизни к следам от когтей этой женщины, сердце Гейне чувствовало себя задетым навсегда. Кошмар разнообразия гейневской поэзии носит печать не только богатой и бессонной, но и болезненно раздражительной фантазии. В этом отношении особенно замечательно его «Романцеро», сборник, который был издан в 1851 г., когда Гейне лежал в постели, уже прикованный к ней навсегда и своей слепотой почти совершенно разобщенный с внешним миром.
Но глубокая безысходная тоска начала в поэте свою творческую работу гораздо раньше, чем он заболел спинной сухоткой. В сущности, Гейне никогда не был весел. Правда, он легко хмелел от страсти и самую скорбь свою называл не раз ликующей. Правда и то, что сердце его отдавалось бурно и безраздельно. Но мысль – эта оса иронии – была у него всегда на страже, и не раз впускала она свое жало в губы, раскрывшиеся для веселого смеха, или в щеку, по которой готова была скатиться бессильная слеза мелодрамы.
Публикуется с любезного разрешения автораВалентина ДОМИЛЬ
"Из еврейства не выскочишь!"
Из письма Рахель фон Варнхаген Генриху Гейне.
Несмотря на все его метания и метаморфозы,
великий поэт никогда не порывал с еврейством.
Последние восемь лет своей жизни, с 1848 по 1856 год, Генрих Гейне провел в "матрацной могиле", Matratzengruft, - как называл поэт гору матрацев, на которых он лежал.
Так, практически обездвиженный, наполовину слепой, лишенный способности самостоятельно есть и пить, великий немецкий поэт Гейне, определил состояние, в котором он пребывал всё это время.
Судя по всему, первые проявления тяжелого заболевания возникли намного раньше. Сведения, подтверждающие эту точку зрения недостаточно определённы. И могут трактоваться по-разному.
"Больной Гейне".
Гравюра Шарля Глейра, 1851г.
Известно, что в 1832 году у Гейне "внезапно возник паралич руки".
Речь идет о констатации факта, лишенного сколько-нибудь значимых, необходимых для диагноза подробностей. Не ясно, о какой руке, левой или правой, идет речь. И, главное, ничего не говорится о последствиях "паралича". Восстановилась ли подвижность в парализованной руке, и, если восстановилась, то в какой мере.
В 1836 году Гейне перенес надолго приковавшее его к постели "тяжелое заболевание печени". Что собой представляло это заболевание, и с чем оно было связано, тоже не вполне понятно.
Первые однозначные свидетельства о наличии прогрессирующего заболевания спинного мозга появились в 1845 году. У Гейне нарушилась походка. Из-за паралича века перестал открываться один глаз. Парез жевательных мышц резко затруднил прием пищи. Гейне заметно постарел и осунулся. Его с трудом узнавали даже близкие знакомые.
15 мая 1846 года корреспондент, организованного Марксом 1 и Энгельсом Коммунистического бюро сношений некий Герман Эвербек сообщал из Парижа:
"Гейне едет завтра на воды в Пиренеи; бедняга безвозвратно погиб, потому что сейчас уже проявляются первые признаки размягчения мозга... Он будет умирать постепенно, частями, как бывает иногда, - в течение пяти лет".В сентябре этого же года Генриха Гейне посетил Фридрих Энгельс. В письме к Марксу Энгельс писал:
"Консилиум врачей с неопровержимой ясностью установил, что у Гейне все симптомы прогрессивного паралича".
 Болезнь Гейне обрастала слухами. В части своей - злыми. Когда Гейне лечился на водах, кто-то из журналистской братии написал, что он помещен в сумасшедший дом. В августе 1846 года в газетах появилось сообщение о смерти поэта.
Болезнь Гейне обрастала слухами. В части своей - злыми. Когда Гейне лечился на водах, кто-то из журналистской братии написал, что он помещен в сумасшедший дом. В августе 1846 года в газетах появилось сообщение о смерти поэта.Посмертная маска Г.Гейне.
Фото с сайта Death Mask
Роковым в развитии болезни стал 1848 год. В мае 1848 года Гейне посетил Лувр. Из Лувра его принесли на носилках. У Гейне отнялись ноги, и он упал на пол у подножия статуи Венеры Милосской.
Мистически настроенные люди приписывали, да и приписывают до настоящего времени, статуе Венеры Милосской особые свойства. То ли накопленную за тысячелетия какую-то действующую на людей энергетику, то ли ещё что-то. При этом они ссылаются на случаи ничем другим, с их точки зрения, не объяснимого влияния статуи богини на посетителей.
Естественно, в ряду прочих происшествий, случившееся с Гейне занимает особое место.
* * *
Годы, проведенные Гейне в "матрацной могиле", были мучительными. Его преследовали приступы мышечных болей. Сверлящих, рвущих, стреляющих. Особое беспокойство доставляли мышечные конвульсии. Ещё имели место кишечные колики, частые рвоты, непроизвольное выделение слюны, расстройство актов мочеиспускания и дефекации.
Гейне лечили. Но проводимое лечение не отразилось сколько-нибудь заметным образом ни на проявлениях заболевания, ни на его течении. 17 февраля 1856 года Генрих Гейне умер. Его похоронили на Монмартровском кладбище.
Смерть Гейне прошла незамеченной. Флобер негодовал по этому поводу:
"И как подумаю, что на похоронах Генриха Гейне было девять человек, мне горько становится. О, публика! О, буржуа! О, негодяи! Ах, презренные!".Богатые родственники Гейне намеревались было воздвигнуть на могиле поэта приличествующий члену уважаемой фамилии мавзолей, но его вдова категорически отказалась. Она сочла знаки внимания запоздалыми.
Памятник на могиле Г.Гейне. Монмартр.
При жизни помощь нуждающемуся поэту поступала от случая к случаю. А её получение было сопряжено с целым рядом унизительных требований. От выполнения или невыполнения которых, зависела и частота денежных поступлений, и сумма.
* * *
Насколько можно судить по воспоминаниям современников, врачи находили у Гейне признаки спинной сухотки. Именно с этим заболеванием они связывали комплекс многочисленных и крайне болезненных расстройств. Еще говорили, что он болен прогрессивным параличом. Во времена Гейне сухотку спинного мозга, и прогрессивный паралич рассматривали, как следствие перенесенного сифилиса. Хотя допускали, что эти заболевания могут развиться и в результате каких-то других воздействий. Сейчас о сифилисе говорят, как о единственной причине. А в спинной сухотке и прогрессивном параличе видят одну из форм позднего сифилитического поражения нервной системы.
В отличие от многих других болезней, о причине возникновения которых можно судить и так, и этак, сифилис однозначен. Либо было заражение. Либо его не было. Наличие у Гейне спинной сухотки говорит в пользу заражения.
Впрочем, не всё здесь стыкуется. Наличествуют определенные разночтения. Некоторые авторы пишут о "дурной наследственности". Иными словами полагают, что сифилис Гейне унаследовал от одного из родителей. Это не вяжется с клиническими реалиями. Обычно наследственный сифилис обнаруживает себя относительно рано. У Гейне, судя по всему, и в детстве, и в юности сифилитические проявления отсутствовали. Очевидно, они появились позднее.
Гейне был не слишком разборчив. И легко мог заразиться. Да и сифилис в ту пору встречался достаточно часто. Не был чем-то из ряда вон выходящим.
А вот прогрессивного паралича у Гейне не было. Прогрессивному параличу, как известно, свойственен целый перечень клинических расстройств. Это бред. В том числе пышный бред величия. Эмоциональные нарушения - от выраженной депрессии до мании. И, наконец, слабоумие. Обычно смерть прогрессивных паралитиков наступает на фоне глубокого маразма.
До последних дней Генрих Гейне, как констатировал один из исследователей "сохранял удивительную мощь духа, ясность и быстроту мышления". Он мог творить. Более того, болезнь с одной стороны как бы стимулировала творчество. С другой, творчество облегчало страдания. Отвлекало от них. Гейне писал:
"Мое умственное возбуждение есть скорее результат болезни, чем гениальности. Чтоб хотя немного утишить мои страдания, я сочинял стихи. В эти ужасные ночи, обезумев от боли, бедная голова моя мечется из стороны в сторону и заставляет звенеть с жестокой веселостью бубенчики изношенного дурацкого колпака".
Как и прежде, Гейне поражал окружающих, остроумием.
В 1848 году Генриха Гейне посетил Карл Маркс. Во время посещения у Гейне перестилали кровать. Любое прикосновение доставляло ему боль. И жена вместе с сиделкой перенесли его на простыне.
- Видите дорогой Маркс, - грустно пошутил Гейне, - женщины по-прежнему носят меня на руках.

До последних дней Гейне влекло к женщинам. И он вызывал у них ответные чувства.
Элиза Криниц у постели Генриха Гейне.
Гравюра Г.Лефлер. Музей д’Орсе, Париж.
В июне 1855 года, меньше чем за год до смерти, Гейне познакомился с некой Элизой фон Криниц. Элизу называют "последним увлечением поэта". Она приехала в Париж из Вены. Общий знакомый попросил ее передать Гейне ноты каких-то музыкальных пьес. И Элиза согласилась.
"Позади ширмы на довольно низкой постели , - писала позднее Элиза, - лежал больной, полуслепой человек... Он выглядел значительно моложе своих лет. Черты его лица были в высшей степени своеобразны и приковывали к себе внимание; мне казалось, что я вижу перед собой Христа, по лицу которого скользит улыбка Мефистофеля".
На протяжении полугода Генрих Гейне и Элиза Криниц общались практически ежедневно. Гейне называл Элизу "Мушка".
По словам сестры Гейне, Шарлотты, у Элизы было
"...лицо с плутоватыми глазами... маленький ротик... При разговоре или улыбке обнажает жемчужные зубки. Ножки и ручки маленькие и изящные, все ее движения необычайно грациозны".
 Шарлота пишет, что Элиза приходила "ежедневно на несколько часов, и почтение, с каким брат относился к неунывающей малютке... возбудило в Матильде...
(жена Гейне Кресанс Эжени Мира. В стихах Гейне именовал её Матильдой - В.Д.) ревность, которая под конец перешла в откровенную вражду"
.
Шарлота пишет, что Элиза приходила "ежедневно на несколько часов, и почтение, с каким брат относился к неунывающей малютке... возбудило в Матильде...
(жена Гейне Кресанс Эжени Мира. В стихах Гейне именовал её Матильдой - В.Д.) ревность, которая под конец перешла в откровенную вражду"
.Жена, Матильда Гейне
Поздравляя Элизу Криниц с наступающим 1856 годом, Гейне писал:
"Ты моя любимая Мушка, и я не чувствую боли, когда думаю о твоем изяществе, о грациозности твоего ума".Последнее письмо, точнее записку, Гейне со служанкой отправил Элизе незадолго до смерти:
"Дорогая! Сегодня (в четверг) не приходи. У меня ужаснейшая мигрень. Приходи завтра (в пятницу)".
Генрих Гейне умер в субботу. В 4 часа 45 минут. За несколько часов до смерти он попросил, чтобы ему принесли "карандаши и бумагу".
Элизе Криниц (ей разрешили на следующий день попрощаться с мертвым поэтом) запомнилось его "бледное лицо, правильные черты которого, напоминали самые чистые произведения греческого искусства".
О характере отношений Генриха Гейне к Элизе Криниц лучше всего говорят строки из его "Мемуаров".
"Когда кровь медленнее течет в жилах, когда любит только одна бессмертная душа... она любит неспешнее и уже не так бурно, зато... бесконечно глубже, сверхчеловечнее".
* * * Чувство юмора не покидало Гейне в самые тяжелые минуты его жизни.
Генрих Гейне
Иллюстрация из биографического очерка П. И. Вейнберга "Генрих Гейне".
 Направленность его юмора касалась вещей, в которых, казалось бы, не было ничего смешного. Его бедственного положения и крайне тягостных болезненных ощущений. Он то пенял Богу на отсутствие логики в его поступках:
Направленность его юмора касалась вещей, в которых, казалось бы, не было ничего смешного. Его бедственного положения и крайне тягостных болезненных ощущений. Он то пенял Богу на отсутствие логики в его поступках:"Прости, но твоя нелогичность, Господь
Приводит в изумление
Ты создал поэта-весельчака
И портишь ему настроение".
То "по-христиански щедро" награждал досаждавших ему всю жизнь "добродетельнейших снобов" своими недугами:
"Вам оставлю, твердолобым,
Весь комплект моих болезней:
Колики, что, словно клещи,
Рвут кишки мои все резче,
Мочевой канал мой узкий,
Гнусный геморрой мой прусский.
Эти судороги - тоже,
Эту течь мою слюнную,
И сухотку вам спинную".
И, наконец, как бы предвидя печальный итог, грустно констатировал:
"Жалко только, что сухотка
Моего спинного мозга
Скоро вынудит покинуть
Прогрессивный этот мир".
Это четверостишие, за исключением поэтических достоинств, разумеется, перекликается с не менее грустной сентенцией умирающего Ленина.
У Ленина, как известно, врачи довольно долго подозревали сифилис головного мозга. И лечили соответственно. Сетуя на отсутствие эффекта от проводимого лечения, Ильич как-то заметил:
"Может, этот паралич и не прогрессивный, но, наверняка, прогрессирующий..."
* * *
Гейне, во всём, что не касалось его творчества, был человеком противоречивым и не слишком основательным. Он дурно распоряжался своими средствами. Нуждался в деньгах. И в силу этого, постоянно был занят поисками источников воспоможествования.
Недоброжелатели называли великого поэта "профессиональным попрошайкой". Либерально настроенные друзья, включая Карла Маркса, были недовольны и, в части своей, возмущены  тем, что пособие Гейне какое-то время выплачивало "реакционное правительство Франции".
тем, что пособие Гейне какое-то время выплачивало "реакционное правительство Франции".
Дядя, Соломон Гейне (1767-1844)
На протяжении многих лет, поэт практически находился на иждивении у своего дяди, богатого банкира Соломона Гейне. После смерти старого Соломона, его наследники выплату пособия прекратили.
Положение лишенного других источников дохода, прикованного к постели Генриха Гейне стало отчаянным. Со стороны родственников это был своего рода тактический ход. Чтобы не сказать - шантаж.
Гейне подготовил к изданию свои "Мемуары". И, родственники, не без основания, полагали, что в "Мемуарах" содержатся компрометирующие их главы.
 В 1847 году Генрих Гейне и его двоюродный брат Карл, сын и наследник почившего в Бозе дяди Соломона, заключили соглашение. Генриху Гейне пришлось дать согласие на сожжение рукописи. Огню были преданы все четыре тома "Мемуаров". Плод семилетнего труда.
В 1847 году Генрих Гейне и его двоюродный брат Карл, сын и наследник почившего в Бозе дяди Соломона, заключили соглашение. Генриху Гейне пришлось дать согласие на сожжение рукописи. Огню были преданы все четыре тома "Мемуаров". Плод семилетнего труда.
Кузен, Карл Гейне (1810-1865)
Со своей стороны, Карл Гейне возобновил выплату пособия.
Судя по сохранившимся отрывкам, мировая литература понесла невосполнимую потерю. Была уничтожена одна из увлекательнейших книг этого жанра.
Наследников Соломона Гейне тоже можно понять. Вопросы литературы их интересовали намного меньше, чем репутация семьи. А репутация эта, опубликуй Гейне свои "Мемуары", могла серьезно пострадать.
Как бы там ни было, уничтожение рукописи "Мемуаров" подтвердило зловещее предсказание поэта:
"Wenn ich sterbe, wird die Zunge ausgeschnitten meiner Leiche."
(Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа).

Мемориал книгам, сожженным нацистами в Берлине на площади Бебельплатц в 1933г.
Под стеклянной плитой глубоко вниз уходят под землю пустые книжные стеллажи.
На врезке: "Это было лишь только началом: там, где жгут книги, будут жечь и людей" , Г.Гейне.
* * *
Сатирические стихи Гейне, его памфлеты и фельетоны не нравились властям. И власти его преследовали. Что, в конечном счете, заставило поэта переехать во Францию.
Несмотря, на то, что многие произведения Гейне имели выраженную политическую направленность, он не был политиком. И в силу своего дарования. И, что не менее важно, в силу личностных свойств.
"Гейне, который тысячи раз жертвовал фактической правдой ради меткой остроты, эффектной концовки или изящно закругленного периода , - писал Лион Фейхтвангер, - ответил как-то на упрек друзей с рассеянной улыбкой: "Но разве это не красиво звучит?"Какой уж тут политик.
И, тем не менее, сатирические произведения Гейне вдохновляли революционную молодежь. В нем видели если не предводителя борьбы за освобождение, то её символ.
В свою очередь Гейне привлекали и социалистические идеи. И их наиболее авторитетные, наиболее яркие выразители. Какое-то время Гейне был близок с Ф.Лассалем. Потом с К.Марксом.
В советские времена дружеским отношениям между Марксом и Гейне придавали особое значение. Великий немецкий философ с одной стороны. И великий немецкий поэт - с другой. Еврейские корни философа и поэта, естественно, не выпячивались. Утверждалось, что Маркс вдохновлял Гейне. А тот, в свою очередь переформировал идеи Маркса в своем творчестве.
 Маркс, действительно просил Гейне меньше писать лирических стихов. Сосредоточиться на политической сатире. И клеймить, не жалея сил, "всех тех, которые...". Включая прусскую военщину и немецкий национализм.
Маркс, действительно просил Гейне меньше писать лирических стихов. Сосредоточиться на политической сатире. И клеймить, не жалея сил, "всех тех, которые...". Включая прусскую военщину и немецкий национализм.
И Гейне, до поры до времени, клеймил в меру сил и возможностей. Но со временем, будучи противником всяческих догм, и не слишком веря в исповедуемые Марксом идеалы, Гейне отошел от него.
Поэту не простили этого. Причем, характеризуя "отступничество" Гейне, Маркс и его верный соратник Энгельс не выбирали выражений. Так Энгельс, сопоставляя Гейне с Бог весть чем не угодившим ему Горацием, писал:
"Старик Гораций напоминает мне местами Гейне, который многому у нас научился, а в политическом отношении был по существу таким же прохвостом".
Ещё жестче выразился Маркс. Имея в виду Гейне, в письме Энгельсу, датированном 17 января 1855 года, он констатировал:
"У старой собаки чудовищная память на всякие такие гадости".
В этом смысле, Ленина, который почем зря обзывал своих противников "политическими проститутками", а порой и похлеще, можно считать верным и последовательным учеником Маркса и Энгельса.
* * *
В молодые годы Гейне порвал с религией отцов. И стал лютеранином.
Тому было немало причин.
И занимавшие умы еврейской молодежи ассимилятивные идеи Моисея Мендельсона. И наполеоновские войны, принесшие евреям освобождение от феодальных ограничений. И негативное отношение к иудаизму в целом. И к его ритуалам, в частности.
Моисей (Мозес) Мендельсон, "немецкий Сократ" (Г.Гейне)
Гейне, как и многие другие евреи того времени, искренне полагал, что смена религии станет его "входным билетом" в большой мир. Как это, сплошь и рядом, бывает с ренегатами, Гейне не получил то, на что рассчитывал. Его поступок осудили одни. И не оценили другие.
Вечно стесненный в средствах Гейне надеялся занять должность школьного учителя. Но ему отказали.
Впрочем, смена религии мало повлияла на мировоззрение Гейне. И, соответственно, на его творчество. В своих стихах он высмеивал и "пейсатых талмудистов", и тех новоявленных сторонников Реформации, которые старались выглядеть святее большинства христиан. Доставалось и вновь обретенным единоверцам.
В знаменитом "Диспуте" Гейне вложил в уста доньи Бланки, жены испанского короля Педро, выстраданную им сакраментальную фразу. Подводя итог многочасовому противостоянию францисканского настоятеля патера Хозе и раввина из Наварры Юды, донья Бланка изрекла:
"Ничего не поняла
Я ни в той, ни в этой вере,
Но мне кажется, что оба
Портят воздух в равной мере..."
Несмотря на все его метания и метаморфозы Гейне никогда не порывал с еврейством. С развитием болезни ощущение сопричастности стало ещё сильнее.
Внук Хаима Бюкебурга, имя деда трансформировалось в фамилию Гейне (Хаим - Хейман - Хейнеман, и, наконец, Гейне), как-то назвал себя "смертельно больным жидом". И горько сетовал, что в день его смерти некому будет прочесть кадиш 2 .
В одной из своих статей, сравнивая древних греков с евреями, Гейне не без некоторого пафоса написал:
"Я понимаю теперь, что греки были лишь прекрасными юношами, напротив, евреи всегда были мужами сильными и непреклонными, не только тогда, но и вплоть до наших дней, несмотря на восемнадцать веков преследований и нищеты... мученики, давшие миру Бога и мораль, которые сражались и страдали во всех битвах разума".Находясь в "матрацной могиле" Гейне создал свои самые "еврейские" стихи.
* * * В личностном плане Гейне достаточно долго был далек от тех высот, на которых находилось его творчество. С поэтами, и не только с ними, это случается довольно часто.
Но годы, проведенные в "матрацной могиле" обнаружили у Гейне такую ни с чем не сравнимую несокрушимость. Такую твердость. Такую способность к преодолению связанных с болезнью мучительных ощущений. Такую доблесть духа (animi fortitude - лат.), что о нем можно говорить не только как о великом поэте, но и, как о великом человеке.
А это дорогого стоит.

Памятник Генриху Гейне на горе Броккен, Германия –
самой высокой точке Гарца, описанном в его "Путешествие на Гарц".
©Валентин Домиль,
Акко, Израиль
Примечание
1
Гейне был дальним родственником Карла Маркса по материнской линии. Примечательно, что, познакомившись в1843 году в Париже, они не подозревали о своём родстве. Оба они разделяли пристрастие к французским утопистам. Карл призывал Гейне поставить свой поэтический гений на службу свободе: «Оставьте эти вечные любовные серенады и покажите поэтам, как орудовать хлыстом». [
Никогда заранее невозможно предугадать, чем станет для Художника и его творчества встретившаяся ему на земном пути Любовь — музой или злым гением. Любовь великого немецкого поэта Генриха Гейне к Матильде Мира не рождала в душе его вдохновение. Но эта красивая француженка с веселым и бойким характером, добрая и преданная ему до самозабвения, подарила Поэту истинное семейное счастье!..
Генрих Гейне - поэт, произведения которого переведены на большинство языков мира - родился в Дюссельдорфе 13 декабря 1798 года, умер в Париже 17 февраля 1856 года. Когда он покинул наш бренный мир, ему еще не было и шестидесяти, но в прожитые им десятилетия вместилось очень многое.
…Он происходил из богатой старинной семьи, но почти всю жизнь отчаянно боролся с нищетой.
…Обучался юриспруденции в университете, получил степень доктора юридических наук, совершенно не интересуясь вопросами права, но с особым вниманием изучая историю, литературу и эстетику.
…Гейне рано ступил на литературное поприще, и сразу же заявил о себе как о сложившемся мастере - продолжателе романтических традиций и родоначальнике реализма в немецкой литературе. Его лирические стихотворения принадлежат к бесценным сокровищам немецкой и мировой литературы, а произведения, в которых с беспощадным остроумием он высмеивал господствовавшую тогда в Германии смесь средневекового феодального порядка и «квасного» патриотизма, неизменно получали восторженный прием у передовой общественности и столь же неизменно запрещались на территории немецкого государства, из-за чего большая часть жизни Гейне прошла в Париже.
…Для творца всегда невыносимо видеть, как гибнут его творения, Гейне пережил такое дважды. Во время пожара, произошедшего в родительском доме, погибла часть его рукописей, которые он доверил матери. Второй случай был еще страшнее. Родственники, узнав, что поэт пишет воспоминания, перепугались: не поведает ли он миру что-нибудь неподобающее об их семействе. Воспользовавшись тяжелым материальным положением Гейне, они выкупили у него за мизерную сумму единственный экземпляр четырехтомной рукописи - плод напряженного семилетнего труда. И сожгли!
…С юности Гейне страдал головными болями, позже появились нервные припадки, а в зрелом возрасте его настигла тяжелая неизлечимая болезнь - прогрессирующий паралич. В 1848 году полуслепой, хромой, он в последний раз выйдет из дома, чтобы посетить Лувр и еще раз взглянуть на божественную красоту Венеры Милосской. С тех пор до самой смерти - восемь лет! - он оставался прикованным к своей «матрацной могиле» - тем 12 матрацам, на которых лежал. Но из этих восьми лет, несмотря на ужасные страдания, Гейне не упустит ни одного дня: сохраняя удивительную мощь духа, необычайную ясность и крепость мышления, он будет продолжать творить!
…А еще в жизни Гейне были женщины - непохожие друг на друга, умницы-красавицы (и не очень), любившие его (и не очень), - они украшали и калечили жизнь поэта, но, может быть, именно им мы обязаны его высокими и вдохновенными, страстными и трагическими шедеврами.
Однако «главная» женщина его жизни, вместе с которой он был почти тридцать лет - не была его Музой…
Любовь с псевдонимом
В истории литературы эта женщина осталась как Матильда Гейне. Но интересно то, что на самом деле ее звали Крессенсия-Эжени Мира, а поэт упорно называл ее Матильдой: в то время это женское имя было излюбленным у романистов…
Кто же была эта женщина, которую любимый человек называл не иначе как псевдонимом?
Матильда, точнее Эжени Мира, была простой крестьянкой, до пятнадцати лет жила в деревне, а потом приехала в Париж к тетке-башмачнице - там-то ее и встретил Гейне. Случилось это в 1830 году.
Высокая шатенка с прелестным личиком, на котором блестели большие и выразительные глаза, а за полуоткрытыми Ярко-красными губами виднелись зубы ослепительной белизны; Эжени, с первой же минуты знакомства заинтересовала поэта. Да и она не оставила без внимания молодого и привлекательного Гейне: красивый, с каштаново-золотистыми кудрями, в элегантной светло-бежевой тройке, под распахнутым кремовым воротом свободно повязан шелковистый бело-голубой шарф…
Их знакомство очень быстро переросло в увлечение, а увлечение - в любовь, оставшуюся с ними до последних дней жизни.
Они прожили вместе невенчанными шесть лет, и даже не все друзья знали об их романе. Они нередко ссорились, и, как ни странно, одна из ссор, происшедшая летом 1836 года, привела к тому, что они… официально стали мужем и женой!
«Пигмалион» и «Галтея»
Матильда ко времени их знакомства была необразованна, даже не умела читать. Гейне посчитал такое положение дел неправильным и активно взялся «лепить» из своей подруги женщину, достойную просвещенного XIX века! Матильда стала для поэта Галатеей, которую он образовывал и воспитывал. Обучение в пансионе, домашние уроки за несколько лет сделали свое дело.
В середине 1840-х годов молодая жена Гейне (конечно же, с его помощью и благодаря его имени) сумела устроить в их доме модный литературный салон, где собирался чуть ли не весь тогдашний цвет европейской литературы. Нередкими гостями здесь были датский сказочник Ганс Христиан Андерсен и Аврора Дюдеван, более известная под псевдонимом Жорж Санд, вальяжный седовласый красавец Александр Дюма, знаменитый французский песенник Пьер-Жан Беранже и знаток человеческих трагедий Онореде Бальзак…
Хотя, надо признать честно, поэзии Матильда не любила, не понимала, и произведения своего великого мужа прочесть, судя по всему, так и не удосужилась!..
Холодным февральским днем…
Генрих Гейне умер 17 февраля 1856 года, без пятнадцати четыре утра.
С присущей ему самоиронией он предсказывал: «Монмартр будет моей квартирой с видом на вечность…» И именно туда, на высокий холм, с которого открывается вид на Париж, двигалась траурная процессия - близкие и друзья поэта, жена Матильда, Камилла Сельден, поэт Теофиль Готье, Александр Дюма, немецкие и французские литераторы, несколько политических эмигрантов. Среди провожающих не было ни бывших возлюбленных, ни любимой сестры, ни родных братьев: то ли им не сообщили, то ли они не посчитали нужным проститься.
Над могилой поэта Матильда поставила скромный памятник: плиту, на которой вырезано всего два слова - «Генрих Гейне».
…После смерти любимого человека Матильда была верна его памяти так же, как верна была ему при жизни. Она больше не вышла замуж: хотя ей не раз предлагали руку, она отказывала всем, не желая забывать мужа и носить другое имя.
Жизнь она вела скромную, размеренную, иногда позволяя себе развлечения вроде посещения цирка или народного театра, когда там ставились веселые пьесы.
Если кто-нибудь был у нее в гостях, Матильда непременно подавала на стол какое-либо блюдо, которое особенно любил ее «дорогой Анри», веря, что этим обнаруживает уважение к памяти поэта.
Почитателям творчества поэта она с удовольствием рассказывала о покойном муже, и эти ее рассказы - простые и безыскусные - были очень трогательны.
…Они расстались на холме Монмартра холодным февральским днем 1856 года, и воссоединились на небесах через 27 лет: Матильда умерла холодным февралем, в тот же день, что и великий Гейне -- ее «милый Анри»…